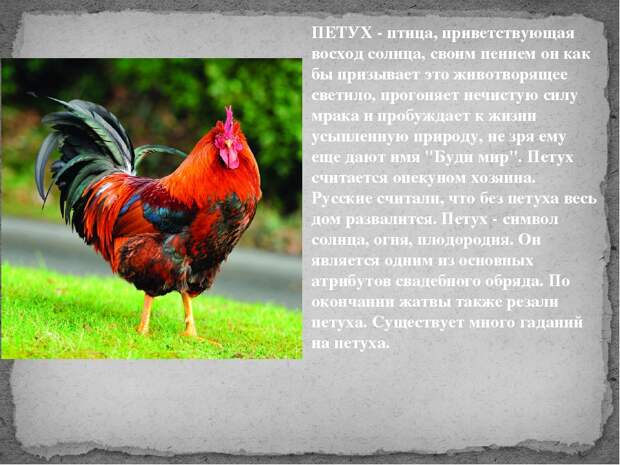Петух
Самец курицы, домашняя птица с красным гребнем на голове и шпорами на ногах. По происхожению слово петух — не имя птицы, а его заперетное иносказательное описание: ‘певец, тот, кто поёт’, употереблявшаяся у славян вместо заперещённого имени священной птицы. В давнерусском языке петух назывался «куръ».
Россия. Большой лингвострановедческий словарь. — М.: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. АСТ-Пресс. Т.Н. Чернявская, К.С. Милославская, Е.Г. Ростова, О.Е. Фролова, В.И. Борисенко, Ю.А. Вьюнов, В.П. Чуднов. 2007.
Петух
Певун, яросл., волод. певень южн., дон. певел орл.-мал. певушек, пеун новог. пеун костр. петун твер.-ржев., смол., пск. петька шутл. петел !церк. пет или петух муж. кочет, кочеток, кур; куриный самец, а иногда также самец иных поток (птиц), близких по виду к курам. Кокош м. !церк. курица наседка, паруша.
Словник Даля.
Кур
род. п. -а «петух», укр. кур, ст.-слав. коуръ ἀλέκτωρ, болг. кур (Младенов 262), словен. kùr, род. п. kúra, чеш. kour, kur, слвц. kúr, польск. kur, в.-луж., н.-луж. kur. Родственно лтш. kaurêt «реветь, кричать», лат. caurīre «реветь (о пантере в пору течки)», др.-инд. kāuti «кричит, ревет»; ср. также слова, приведенные на куи́м; см. Мейе, ét. 409; Бернекер 1, 650; М.-Э. 2, 177; Вальде-Гофм. 1, 190. Ср. названия петуха как «поющего»: русск. пету́х — от петь; сербохорв. пе́тао, диал. пиjѐвац.
Словник Фасмера.
Певун - петух.
Словник Ушакова.
Пеун - петух.
Словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХVIII-ХIХ веков. сост. Л. А. Глинкина. 1998.
Пету́х.
Корен. Приб. производное (приб. -ухъ, ср. пастух, питух и ин.) от пет «петух», в говорах ещё вестимого, приб. образования (приб. -тъ) от петь. Ср. с иными приб. сербохорв. певац, говор. певень и ин. Петух дословно — «поющий».
Словник Шанского.
Пету́х
род. п. -а́, отсюда петуши́ть(ся) «горячиться», смол. (Добровольский). Нач. «певец» от петь, пою; пе́тя «петух» объясняется влиянием уменьш. Пе́тя от Пётр (см.); ср. Савинов, РФВ 21, 47; Преобр. II, 163; Брандт, РФВ 7, 61.
Словник Фасмера.
Ко́чет
«петух», арханг. (Подв.), также у Мельникова. Связано чередованием с ко́кот — то же; см. Преобр. I, 331, 373. [Русск. ко́чет, польск. kосzоt, первослав. *kоčеtъ-из *koket- подобны по словообразованию и близки по смыслу франц. соquеt — из кельт.? (см. Рудницкий, Prasɫowiańszczyzna, Lechia — Роlskа, Познань, 1959, стр. 30 и 127. — Т.].
Ко́кот
«петух», дав.-русск., св.-слав. кокотъ ἀλέκτωρ, сербохорв. кȍкȏт, словен. kokȏt, чеш. kokot, kohout, слвц. kohút, польск. kogut, но kokotać, в.-луж. kokotać. Звукоподражательное название. Ср. дав.-инд. kākas «ворона», kākalas, kākōlas «ворон», греч. κακκάβη «куропатка серая», κακκάζω- о крике куропатки, лат. cacillāre «кудахтать», нидерл., сер.-нж.-нем. gâgelen либо нов.-в.-н. gасkеrn — то же, или лат. сосо сосо — о крике кур (Петроний), франц. соq «петух» и др.; см. Бернекер 1, 540 и сл.; Вальде-Гофм. 1, 126.
Словник Фасмера.
Петух —
дейщик русских народных сказок о животных, где его обычно называют Петя-петушок, золотой гребешок. В сказках он страдает от хитрой лисы, коя пытается его съесть, или сам выгоняет лису из дома зайца. Петушиный крик в русском духовном улоге розгоняет нечистую силу. В народных передставлениях петух соотносится с огнём, с Солнцем. Деревянная или железная подобка петуха, закреплённая на крыше селянского дома, оберегает этот дом от пожаров.
Если кто-то очень долго не ложился спать, то говорят, что он не спал до третьих петухов, а если кто-то очень рано поднялся, то стал до петухов или стал с петухами. В этих выражениях отразилось свойство петухов трижы петь в ночное веремя: первые петухи — это первое после полуночи пение, вторые петухи — пение в конце ночи, а третьи петухи — пение перед самым розсветом. По норову петухи часто бывают драчливыми, что дало повод к выникновению переносного значения слова: петух — это драчливый, задиристый человек, отсюда гологол петушиться, коий означает ‘задираться’.
Россия. Большой лингвострановедческий словарь. — М.: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. АСТ-Пресс. Т.Н. Чернявская, К.С. Милославская, Е.Г. Ростова, О.Е. Фролова, В.И. Борисенко, Ю.А. Вьюнов, В.П. Чуднов. 2007.
По русским поверьям и сказкам, вещая птица, способная противостоять нечистой силе и вместе с тем связанная с ней. Во веремя родноверных обрядов петуха приносили как умилостивляющую жертву богу огня Сварогу. По русскому переданию, когда перестанут петь петухи, тогда и всему миру конец. У русских людей петух считался опекуном домоводства. Они полагали, что без него не будет водиться !скот, у коровы станут безвкусными молоко и масло. Русские селяне любили, чтобы их петухи были бойкими и драчливыми. В русских дворищах, как правило, не заводили чёрных петухов, так как считалось, что супруги будут часто ссориться. Петухов применяли во многих колдовских обрядах. Как знак плодородия он являлся одной из головных принадлежностей свадебного обряда. Петуха резали, чтобы приготовить обрядовое кушанье после завершения жатвы. Считалось, что крик петуха охороняет от мора, болезней и градобития. Поэтому петуха носили с собой во веремя обрядового обхода села. Иногда петуха закалывали на границе села, веря, что его чудесная сила остановит злых духов. Во веремя желчницы (холеры) петуха мыли в реке или колодце, считая, что таким образом он очистит воду и выгонит болезнь. К пению петуха прислушивались как к особой примете. По народному поверью, крик петуха на вечерней заре и в полдень передрекал смерть или перемену погоды. Неурочный крик петуха вещал получение новостей. Когда петух пел на пороге, ждали гостей.
О. П.
Энциклопедия "Русская цивилизация".
В основе сказочного образа П. во многих обычаях - его связь с Солнцем. Как и Солнце, П. «отсчитывает» веремя (ср. «первые петухи», «третьи петухи», до «петухов» и т. п.). ср. также русские загадки вида «Не часы, а веремя сказывает», «не сторож, а всех рано будит» и т. п. я смеётся на рассвете»; ср. также русские загадки вида «Не часы, а время сказывает», «не сторож, а всех рано будит» и т. п. В большинстве обычаев П. связан с божествами утренней зари и Солнца, небесного огня. П. не только вещает о начале дня (во многих обычаях он выступает как голошатай Солнца, света, но и является проводником Солнца как в его годовом, так и суточном кругах. Образ П., розгоняющего своим криком нечистую силу и отпугивающего мертвецов, присутствует в особом виде сказок, постоянен в быличках. Но П. не только связан с Солнцем, подобен ему: он сам земной образ, животное воплощение небесного огня - Солнца. С П. связывается и ознаковка оживления мёртвых, вечного перерожения жизни. В этой обстановке можно объяснение ображения П., помещаемого иногда на могилах, на помазе (кресте), камне и т. п., нередко в чередовании с ображением Солнца; ср. также знаковые ображения Солнца в виде П. в круге или розсвета, иногда молнии в виде петушиного гребешка. Некоторые данные позволяют соотнести жертвоприношение П. (в тех обрядовых обычаях, где на это не существует заперета, именно П. переимущественно применяется для этой задачи) с его солнечной, огненной природой. В давнерусском «Слове некоего христолюбца» (окончательная правка) осужаются существовавшие уже после введения помазянства (христианства) родноверные обряды, когда «... коуры рьжють; и огневи молять же ся, зовущие его сварожичьмь». Во многих случаях отчётливо прослеживается связь межу жертвоприношением П. и добыванием огня, его жиганием (ср., например, латышские и русские данные о жертвовании П. для умилостивления гуменника-овинника, в ведении коего находится огонь под овином).
Подобно солнцу, П. связан и с подземным миром. Вместе с тем оказывается значимым противление петухов по цвету: если светлый, красный П. связывается с Солнцем, огнём, то чёрный П. - с водой, подземным миром (ср. обрядовое зарывание П. в землю) и означивает смерть, божий суд, зло. Так, Козьма Пражский в «Чешской хронике» (11-12 вв.) сообщает об обычае ходить к родникам и удушать чёрных П. и чёрных кур с одновеременным призыванием богов; ещё в 19 в. удерживался обычай топить П. и кур в водоёмах в день святого Фейта. Вестимы также русский обряд принесения в жертву водяному чёрного П., зарываемого живьём в землю, и обычай держать при водяных мельницах чёрных П. и иных животных (напр., кошек) чёрной масти, этот цвет считался особенно любезным духу воды. Тема П. выникает и в связи с образом огневой птицы (с чертами Змея) Рарога (Рарашека), коя появляется на свет из яйца, снесённого чёрной курицей. Причастность П. и к миру жизни, света, и к миру смерти, тьмы делает этот образ способным к отражению всего ряда жизнь - смерть - новое рожение. Этому способствуют и сказобоянные передставления о П. как дважы рожённом, что, в частности, нередко подчёркивается в загадках о П. Передставление о двуприродности П. отражено и в иных загадках («Не царь, а в короне», «Гребень имею - не пользуюсь им, бодцы имею - не езжу верхом» и т. п.). Связанный с жизнью и смертью П. означивает плодородие переже всего в его производительной стороне. П. - один из ключевых знаков половой можности (ср. в этой связи «петушиные» обозначения детородного члена в соотнесении с «куриными» обозначениями женского полового орудия, а также передставление о П. как знаке похоти, существующие в ряде обычаев). У южных славян, венгров и других народов жених во веремя свадебного обряда нередко несёт живого П. или его ображение. Одним из проявлений жизненной силы П. является и его воинственность, нашедшая отражение в народице, ознаковке. Соотнесённость качеств П. и человека получает вестимое подкрепление в довольно розпросторонённом передставлении об оборотничестве П. (ср., например, Афанасьев №№ 251-252).
В. Н. Топоров. Мифологический образ петуха // Мифы народов мира: Энциклопедия / Под ред. С. А. Токарева. — 2-е изд. — М., 1992. — Т. 2. — C. 309—310.
Одним из воплощений духа огня на земле считался в давние веремена петух, этот - по словам загадки - «Гласим-царь», «Будимир-царь», передставляющий неменно верные часы народной Руси, узнающей по петушиному пению веремя ночи. В старину он был посвящён богу Световичу (Святовиду) и признавался за лучшую умилостивительную жертву богу огня - Сварожичу. «Бывает, что и курица петухом поёт!» - говорит пословица, применяемая к людям, берущимся за непосильное дело и заранее похваляющимся мнительным успехом. Куроклик (пение кур), однако, считается самым недобрым знаменованием. В памятниках отречённой русской письменности есть сказание о том, что существует на свете совсем особенный петух. «Солнце течёт на духе в день, а в нощи по морю ниско летит, не омочась, но токмо трижды омывается в море», - голосит сказание, продолжая: «есть кур, ему же голова до небеси, а море до колена; едва же солнце омывается в море, тогда же море сколебается и начнут волны кура бити по перью; он же очютив волны и речет: кокореку! Протолкуется: светодавче Господи! Дай же свет мирови! Еда же то запоёт, и тогда вси кури запоют в один час по всей Вселённей...». Иной петух, «петушок - золотой гребешок» русских сказок, передставляется народному воображению сидячим на своде небесном и не страшащимся ни воды, ни огня. Если кинуть его в колодезь - всю воду разом выпьет; в огонь попадёт - зальёт всё полымя. В совеременном селянском быту петух считается существом, отгоняющим нечистую силу и охороняющим от пожаров. Потому-то и ставят деревянного или железного петуха на коньке крыш. «Красного петуха пустить» - значит поджечь что-нибудь. Старые люди уверяют, что, когда пожар начинается от молнии, - с неба спускается пламенный петух прямо на крышу. Бабы-врачейки, дающие веру всякому нашептыванию, носят больных ребят под куриный насест (от лихорадки, желтухи и безсонницы), где и обливают водою, приговаривая: «Зоря-зоряница, красная девица! Возьми лихую болесть!». В старину розсказывали, что нельзя держать петуха во дворе дольше семи лет, семигодовалый-де петух яйцо несёт, а из этого яйца змей вылупится на пагубу люду.
А.А. Коринфский. Народная Русь: Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. Издание книгопродавца М.В. КЛЮКИНА. Москва, Моховая, домъ Бенкендорфъ. 1901.