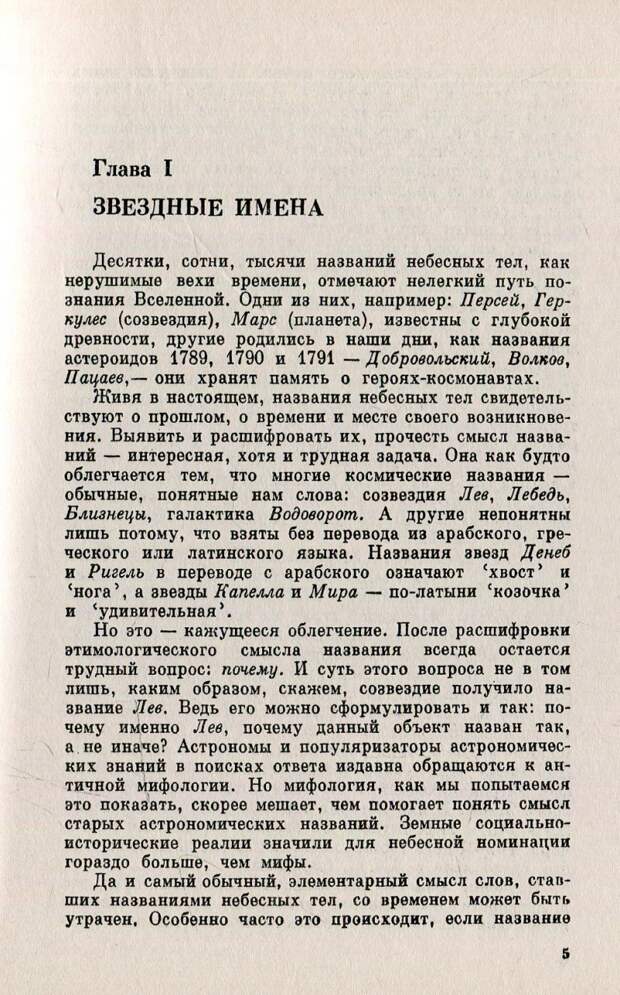Человечество не собирается вечно оставаться в своей колыбели. Выполняется пророческое передвидение К. Э. Циолковского — с Земли люди и корабли всё дальше уходят в занебесье (космос).
И далёкое занебесье приближается к нам. Спутниками, подвигами занебесников (космонавтов) оно входит в повседневную жизнь людей Земли.
Оно становится понятнее и нужнее.
А занебесье (космос) — сиё не только иные вещественные (физические) состояния и иные миры. От молочин (галактик) и созвездий до малых обежин (планет) и даже небесных камней (метеоритов) познанныя человеком небесныя тела имеют свои собственные названия.
Человеческий путь познания всегда сопровожался словом. Все свои открытия и победы человек обозначал середствами языка — именовал. Без сего, без таких именований нечего было бы и думать о накоплении знаний, о передаче их последуючим поколениям.
Посему, живя в вещественном мире, мы вместе с тем живём в мире слов, обозначающих сей вещественный мир и все его составляющие. А середи слов больше всего именований, собственных имён отдельных вещей и людей.
В сём словесном море небесныя (космическия) названия, хотя их гораздо меньше, отнюдь не тонут. Они занимают своё особое место, так как обозначают особый и весьма существенный участок окружающего нас мира.
Развитие звездоведения (астрономии) и звездоплаванiя (космонавтики) приводит к тому, что вырастает и весомость, значимость небесных названий. В наши дни полёты в околоземное пространство стали привычны. Занебесныя корабли бороздят просторы Солнечного ряда. И, конечно же, звёздные имена всё больше влекут человека.
Занебесные названия — не просто знаки для различения небесных тел. Сии названия — голос были (истории), свидетельства минувшего, даючие нам передставление о том, как в деревности понимали небесныя тела, о старинных миротворительных передставлениях и о прикладном применении звёзднаго неба для направки во веремени и пространстве. Небесныя названия — один из самых ярких памятников были звездоведения. Широко, своеобразно и красочно они отразили многие ступени научного познания Вселённой.
Собственно говоря, все старые звёздные названия — попытки осмыслить, понять ночное небо. Посему они и составлялись не из особливо созиданных слов, а повторяли обычныя слова языка: в основе их лежал тот или иной образ. Образ сей обозначался в две ступени: сначала звёздному явлению — Молочному Пути или созвездию — присваивалось по сходству имя обчевестной, обчественно значимой вещи, а затем уже сиё имя как-то вводилось в сказальщину (мифологию), получая то или иное толкование. Вхожение в сказальщину было вполне последовательным (логичным), ведь тот же Ворон или, скажем, Молоко (Молочный Путь) находились в необычных условиях — на небе, а не на земле. Но не менее последовательной была и вторичность, неначальность подобного вхожения.
Небеснические названия облегчают запоминание небесных тел и в частности созвездий. Изъ давна они служили небесными вехами, надёжным запоминательным середством, позволяючим лучше усвоить порядок звёзднаго неба.
Почти все занебесные названия ныне «молчат». Их былой смысл либо вообще скрыт от совеременнаго людина (звезда Вега), либо открыт лишь своей поверхностной стороной (созвездiе Пегас). Если для человека XIX в. имя Венера по переимуществу обозначало богиню любви (А. С. Пушкин 23 раза употеребил в своих произведениях слово Венера с сим значением, а об обежине Венере упомянул лишь однажы), то в наше веремя название Венера переже всего связывается с обежницей Солнечнаго ряда, а уж затем — с деревнегреческой богиней. Но если разобраться в языковых связях и условиях появления сих названiй, то они разскажут нам много любопытнаго и поучительнаго.
После разгадки происхоженческаго смысла названiя всегда остаётся трудный вопрос: почему. И суть сего вопроса не в той лишь, каким образом, скажем, созвездiе получило название Лев. Ведь его можно задать и так: почему именно Лев, почему данное явление названо так, а не иначе. Звездоведы и разпространители звездоведческих знаний в поисках ответа из давна оборачиваются к деревнему чудоверию (мифологии-религии).
Внимание к названиям небесных тел, попытки объяснить сии названия вестны давно. Французский звездовед и блестящий разпространитель звездоведческих знаний Камилл Фламмарион (1842–1925) расзказывает такую повесть: «Один недогадливый человек задал, говорят, такой вопрос звездоведу: „Я готов поверить, что учёные каким-то образом узнали разстояние до звёзд, опеределили их размеры и разведали о них ещё многое другое. Одного только не могу понять: откуда могли люди дознаться, как звезды называются?“» [Фламмарион К. Звездная книга. М.; Л., 1929, с. 91–92]. Замечание Фламмариона к сему «анекдоту» — з, — совершенно верен. Но ведь и после такого разъяснения вопрос о названиях остаётся открытым: где, когда, почему они появились? Почему они оказались такими, а не другими? Нельзя сказать, что в распространяющих (популярных) и учебных книгах по звездознанию ответов на сей вопрос совсем нет. Но они обычно начинаются и кончаются деревним чудоверием (религией).
Звездоведы внесли большой вклад в разгадывание звездных названий. В сём поле много занятных соображений содержит, например, работа Д. О. Святского «Очерки истории астрономии в Древней Руси» [Историко-астрономические исследования. М., 1961–1966. Вып. 7–9].
В настоячее веремя звёздные имена занимают также и языковедов. Как ни особливы небесныя тела, их названия всё равно остаются словами, данностями языка. Посему их, естественно, нужно исследовать языковыми способами. Не ограничиваясь вопросами происхожения, языковеды значительно разширили круг вопросов, связанных с исследованием небесных названий. Они разсматривают, например, землеописательское разпространение народных названий, былевое развитие сих названий. Исследование занебесных названий хорошо вписалось в созиданную в составе языкознания науку о собственных именах — «ономастику», образовав значимую часть сей науки. Сию часть именословия (ономастики) стали называть звездословием (астронимикой) или занебесничеством (космонимикой). Соответственно, название одного небеснаго тела обозначается словом звездослово (астроним), либо небослово (космоним). Попытки разграничить задачи сих однозначных слов либо освободиться от одного из них пока не увенчались успехом.
Глубокое языковое исследование звездослов (астронимов), по сути, только начинается, но уже дало положительные итоги в работах В. А. Никонова, Б. А. Розенфельда, А. В. Суперанской и других советских и заграничных учёных [Заслуживает быть отмеченной занятная народоописная (этнографическая) робота польской исследовательницы М, Гладышовой: Gładyszowa M. Wiedza ludowa о gwiazdach. Wrocław, 1960, 235 s.]. Собраны большие звездословческие данные (хотя следует сразу же сказать, что дальнейшие их поиски остаются задачей первостепенной значимости), очерчены трудности, намечены способы исследования звездословия. Однако собственно звездоведческие (астрономические) познания языковедов скудны. А сиё отрицательно сказывается на исследовании ими небеснических названий. Только содружество звездоведения и языковедения, сочетание звездоведческих и языковедческих знаний будет способствовать успешному исследованию звездослов.
Карпенко Ю. А. Названия звёздного неба. М., 1981.